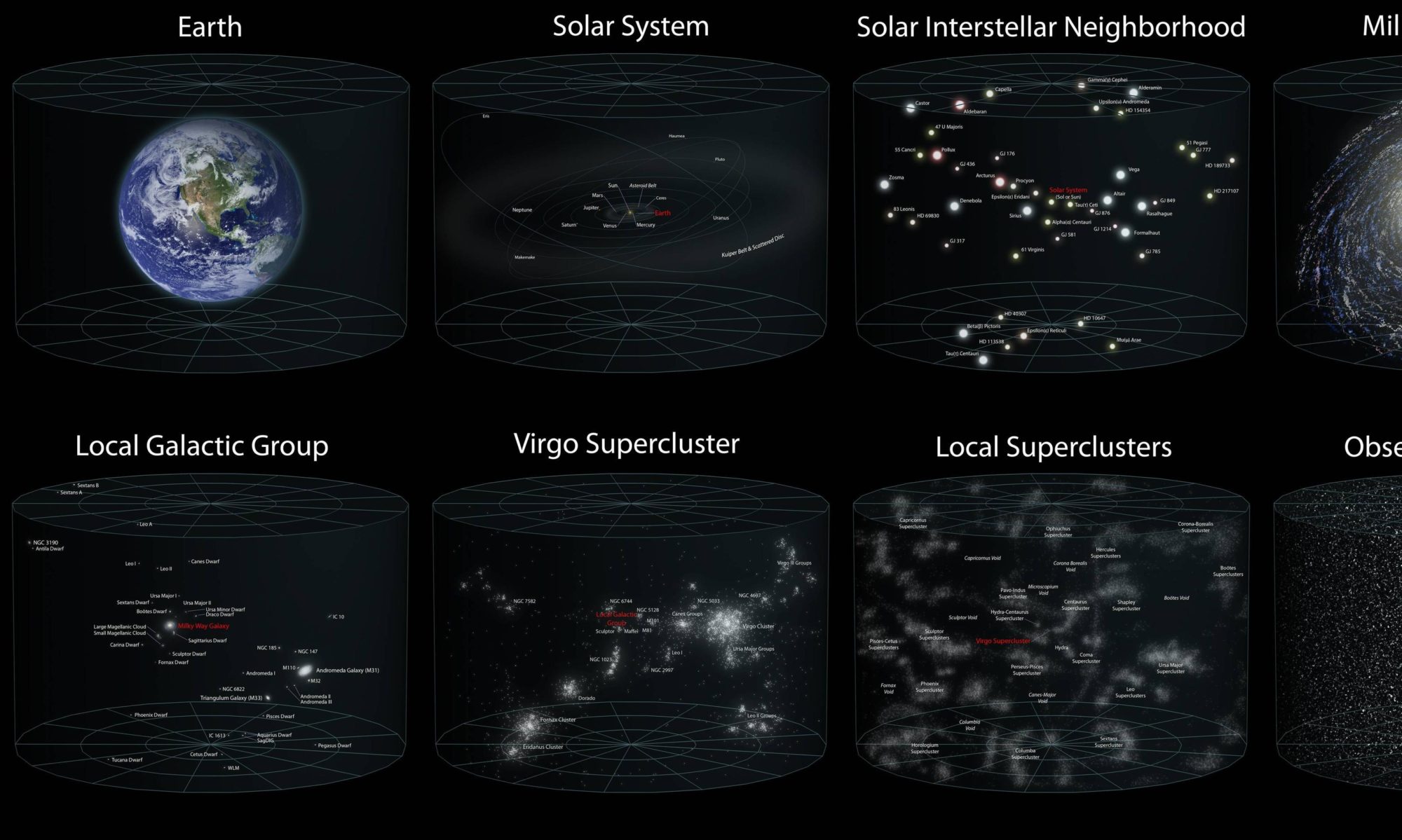Оригинал взят у 
 Очень много вопросов посыпалось про битье и всякое такое. Почему так по-разному это воспринимается, почему такие разные последствия для детей.
Очень много вопросов посыпалось про битье и всякое такое. Почему так по-разному это воспринимается, почему такие разные последствия для детей.Чуть-чуть попытаюсь структурировать.
Мне кажется, между родителем и ребенком всегда существует некий негласный договор о том, кто они друг другу, каковы их взаимоотношения, как они обходятся с чувствами своими и друг друга. И есть несколько моделей этих договоров, в каждой из которых тема физических наказаний звучит совершенно по-разному.
Модель традиционная, естественная, модель привязанности.
Родитель для ребенка — прежде всего источник защиты. Он всегда рядом в первые годы жизни. Если надо ребенку что-то не разрешить, мать останавливает его в буквальном смысле — руками, не читая нотаций. Между ребенком и матерью глубокая, интуитивная, почти телепатическая связь, что сильно упрощает взаимопонимание и делает ребенка послушным. Физическое насилие может иметь место только как спонтанное, сиюминутное, с целью мгновенного прекращения опасного действия — например, резко отдернуть от края обрыва или с целью ускорить эмоциональную разрядку. Про второе хорошо писала коллега вот здесь http://olgapisaryk.livejournal.com/93594.h
Модель дисциплинарная, модель подчинения, «удержания в узде», «воспитания»
Ребенок — источник проблем. Если его не воспитывать, он будет полон грехов и пороков. Он должен знать свое место, должен подчиняться, его волю нужно смирить, в том числе с помощью физических наказаний. Этот подход очень ярко прозвучал в философа Локка, он с одобрением описывает некую мамашу, которая 18 (!!!) раз за один день высекла розгой двухлетнюю кроху, которая капризничала и упрямилась после того, как ее забрали от кормилицы.
Появление этой модели во многом связано с урбанизацией, ибо ребенок в городе становится обузой и проблемой, и растить его естественно просто невозможно. Он должен быть «обтесан» для пребывания в четырех стенах и для воспитания не родителями, а нанятыми людьми. Любопытно, что даже семьи, у которых не было жизненно важной необходимости держать детей в черном теле, принимали эту модель. Вот в недавнем фильме «Король говорит» между делом сообщается, как наследный принц (!!!) страдал от недоедания, потому что нянька его не любила и не кормила, а родители заметили это только через три года. Нормально.
Естественно, не подразумевая привязанности, эта модель не подразумевает и никакой эмоциональной близости между детьми и родителями, никакой эмпатии, доверия, никаких «чюйств». Только подчинение и послушание с одной стороны и строгая забота, наставление и обеспечение прожиточного минимума с другой. В этой модели физические наказания абсолютно необходимы, они планомерны, регулярны, часто очень жестоки и обязательно сопровождаются элементами унижения — дабы подчеркнуть идею подчинения. Дети часто виктимны и запуганы либо идентифицируются с агрессором («меня били — и человеком вырос, и я буду бить»). Но при наличии других ресурсов вполне вырастают и живут, не то чтобы в контакте со своими чувствами, но более-менее. Особенно адаптированы к иерархическим системам: армии, церкви, госаппарату. Да Диккенс вон блестяще их описал во всех подробностях и вариантах.
Модель «либеральная», модель «родительской любви»
Новая и неустоявшаяся, возникшая из отрицания жестокости и бездушной холодности модели дисциплинарной, а еще благодаря снижению детской смертности, падению рождаемости и резко выросшей «цене ребенка».Содержит идеи типа «ребенок всегда прав, дети чисты и прекрасны, учитесь у детей, с детьми надо договариваться» и всякое такое. Заодно с жестокостью отрицает саму идею семейной иерархии и власти взрослого над ребенком.
Предусматривает доверие, близость, внимание к чувствам, осуждение явного (физического) насилия. Ребенком надо «заниматься», с ним надо играть и «говорить по душам».
При этом в отсутствие условий для нормального становления привязанности и в отсутствии здоровой программы привязанности у самих родителей (а откуда ей взяться, если их-то воспитывали в страхе и без эмпатии?) дети не получают чувства защищенности, не могут быть зависимыми и послушными, а им это жизненно важно, особенно в первые годы, да и потом. Не чувствуя себя за взрослым, как за каменной стеной, ребенок начинает стараться сам стать главным, бунтует, козлит, его разносит от тревоги. Родители переживают острое разочарование — вместо «прекрасного дитя» они получили злобного и несчастного монстрика. Они психуют, срываются, бьют — не намеренно, а в приступе ярости и отчаяния, потом сами себя грызут за это. А на ребенка злятся нешуточно — ведь он «должен понимать, каково мне». Некоторые открывают для себя волшебные возможности эмоционального насилия и берут за горло шантажом и чувством вины. Дети, неблагодарные сволочи, вытирают об родителей ноги, ничего не хотят, ничего не ценят. Все хором ругают либеральные идеи и доктора Спока, который вообще ни при чем, и вспоминают, где лежит ремень. Доктор Добсон алчно подсчитывает гонорары.
Так вот, в пределах дисциплинарной модели физическое насилие не очень сильно ранило, если не становилось запредельным, потому что таков был договор. Никаких чуств, как мы помним, никакой эмпатии. Ребенок этого и не ждет. Больно — терпит. По возможности скрывает проступки. И сам к родителю относится как к силе, с которой надо считаться — без особого тепла и нежности.
Когда же стало принято детей любить и стало надо, чтобы они в ответ любили, когда родители стали подавать детям знаки, что их чувства важны, — все изменилось, это другой договор. И если в рамках этого договора ребенка вдруг начинают бить ремнем, он просто офигевает, теряет всякую ориентацию. Отсюда феномен, когда порой человек, которого все детство жестоко пороли, не чувствует себя сильно травмированным, а тот, кого один раз в жизни не так уж сильно побили или только собирались, помнит, страдает и не может простить всю жизнь.
Чем больше контакта, доверия, эмпатии — тем немыслимее физическое наказание. Не знаю, если б вдруг, съехав с катушек, я начала со своими детьми что-то подобное проделывать, мне страшно даже подумать о последствиях. Потому что это было бы для них полное изменение картины мира, крушение основ, то, отчего сходят с ума. А для каких-то других детей других родителей это был бы неприятный инцидент — и только.
Поэтому и не может быть общих рецептов про «бить не бить» и про «если не бить, то что тогда».
Как-то так, надеюсь, не очень сумбурно.
Впрочем, в теме битья есть еще один аспект, совсем малоприятный. Но это в другой раз.