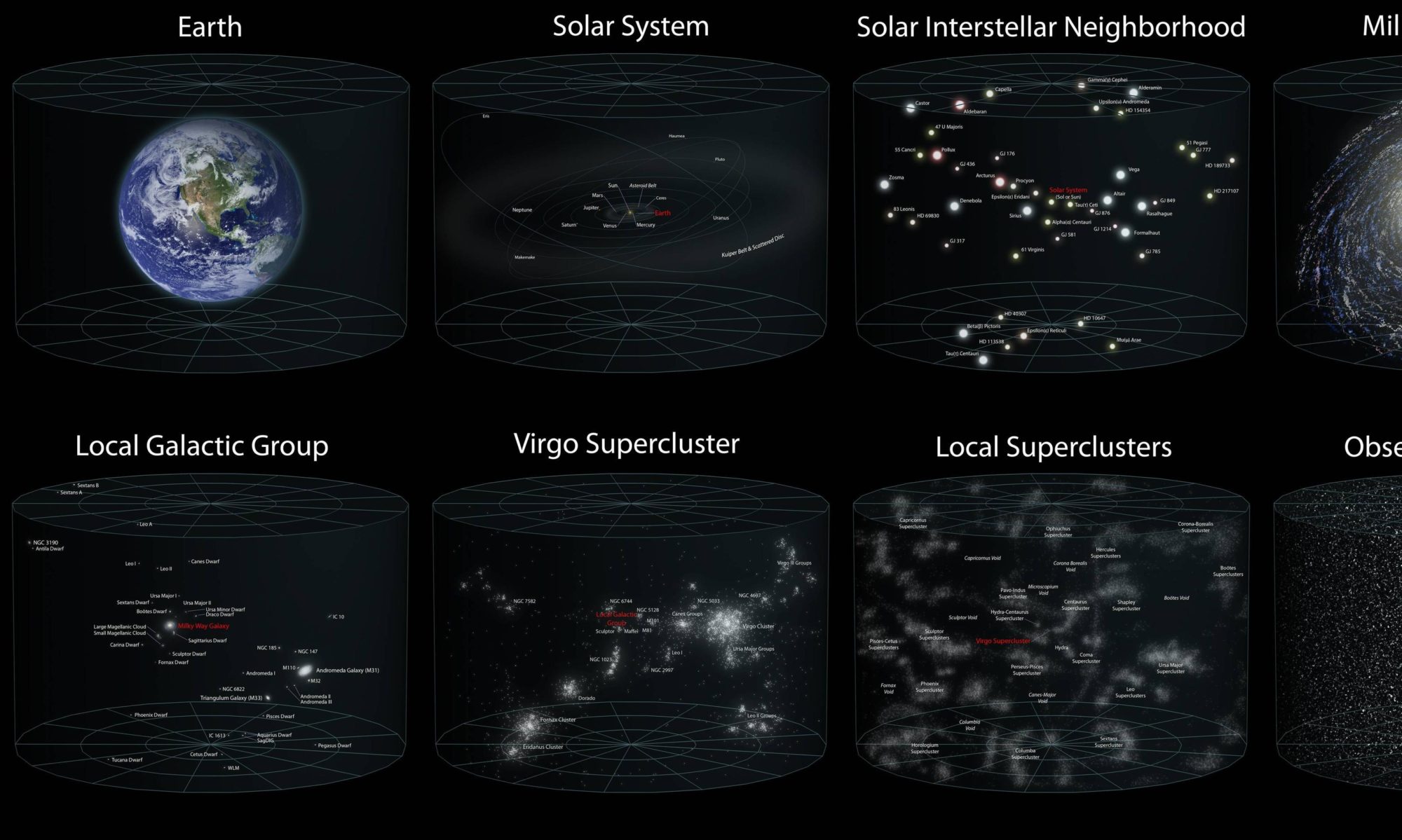Понедельник, 17 сентября 1979
Бился, если так можно выразиться, над «Таинством покаяния», над его историческими, богословскими, психологическими «метаморфозами». Всегда то же удивление: оказывается, «богословие» попросту ничего путного по этому вопросу не сказало. Как, почему из таинства примирения с Церковью превратилось оно в нашу современную трехминутную исповедь? Как, почему все миряне превратились в «отлученных»? На все это ответов нет, никто этим не занимался, а между тем для Церкви, для ее, так сказать, «повседневной жизни» нет проблемы более насущной. Что такое «разрешение грехов»? В чем состоит власть «вязать и решить»? И так далее. Выходит так, что, за что ни возьмешься — реальное жизненное, — всегда оказываешься перед «целиной» и нужно все начинать сначала, причем и само это «начало» неясно…

Я не сомневаюсь, что, несмотря на все «метаморфозы», в таинстве покаяния есть преемство, есть какое-то основное, глубокое подлежащее, то есть сама реальность, сама сущность покаяния, неотделимое от сущности христианства. Христианство есть покаяние, и потому Церковь есть таинство покаяния, и потому в Церкви есть таинство покаяния. Но уразуметь, вскрыть подлинный смысл и содержание этого тройного есть нелегко. Ибо тут-то и начинает все двоиться, становиться двусмысленностью. Покаяние — тоска не по «праведности», а по Богу: «Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене…». В отрыве же от этого своего «теоцентризма» оно становится «антропоцентрическим» и неизбежно скользит либо к юридизму, либо к психологизму… Но как «реставрировать» это таинство, если сами верующие принимают эту редукцию, ибо ею пронизана вся наша культура?
Бился, если так можно выразиться, над «Таинством покаяния», над его историческими, богословскими, психологическими «метаморфозами». Всегда то же удивление: оказывается, «богословие» попросту ничего путного по этому вопросу не сказало. Как, почему из таинства примирения с Церковью превратилось оно в нашу современную трехминутную исповедь? Как, почему все миряне превратились в «отлученных»? На все это ответов нет, никто этим не занимался, а между тем для Церкви, для ее, так сказать, «повседневной жизни» нет проблемы более насущной. Что такое «разрешение грехов»? В чем состоит власть «вязать и решить»? И так далее. Выходит так, что, за что ни возьмешься — реальное жизненное, — всегда оказываешься перед «целиной» и нужно все начинать сначала, причем и само это «начало» неясно…

Я не сомневаюсь, что, несмотря на все «метаморфозы», в таинстве покаяния есть преемство, есть какое-то основное, глубокое подлежащее, то есть сама реальность, сама сущность покаяния, неотделимое от сущности христианства. Христианство есть покаяние, и потому Церковь есть таинство покаяния, и потому в Церкви есть таинство покаяния. Но уразуметь, вскрыть подлинный смысл и содержание этого тройного есть нелегко. Ибо тут-то и начинает все двоиться, становиться двусмысленностью. Покаяние — тоска не по «праведности», а по Богу: «Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене…». В отрыве же от этого своего «теоцентризма» оно становится «антропоцентрическим» и неизбежно скользит либо к юридизму, либо к психологизму… Но как «реставрировать» это таинство, если сами верующие принимают эту редукцию, ибо ею пронизана вся наша культура?
Четверг, 21 февраля 1980
Первая Преждеосвященная вчера, а до нее, так же как и накануне, бесконечные исповеди. И, как всегда, чувство неясности: в чем смысл исповеди, такой, какой существует и практикуется она сейчас? Понятна мне исповедь католическая («нарушение закона»), но не понятна православная — ни, так сказать, «догматически» (таинство покаяния), ни духовно. В ней очевиднее всего метаморфоза христианства, Церкви. Церковь родилась как реальность, противостоящая и внешне, видимо, и еще больше — внутренне, невидимо, — миру сему. Метаморфоза же ее заключается в том, что она стала постепенно, а теперь уже и окончательно — религиозным «обслуживанием» мира. Изначально таинство покаяния было целиком сосредоточено на одном: на измене Церкви, то есть воплощаемой и являемой ею реальности. Грех осознавался прежде всего как измена «новой жизни», выпадение из нее. Он был разрывом, отпадением, предательством, так же как святость понималась не как «нравственное совершенство», а как «онтологически» верность Христу и Его Царству. Нравственное учение Евангелия — эсхатологично, а не «этично». Сущность греха — не просто нарушение «закона», а отпадение от Бога и от жизни, от подлинного «вожделения». И, во-вторых, сущность его для христиан как измены Христу, отпадения от Него и от Церкви как Им данной жизни. Таким образом, таинство покаяния — это возврат, это возвращение, путем раскаяния, в «новую жизнь», уже данную, уже явленную… Современная исповедь обращена, однако, не на то, не в этом суть ее, а в некоем «моральном» регулировании жизни в «мире сем», регулировании его собственных «законов». Иными словами, таинство покаяния было вначале отнесено не к нравственному закону, а к вере и к греху как отпадению от веры («верующий в Него не грешит»1) (см. все первое послание Иоанна). Теперешняя исповедь есть разговор о нарушениях «нравственного закона», о слабостях и греховности, но без «отнесенности» к вере. И ответ в нем — не о Христе, а что-то вроде «старайтесь побольше молиться…», «боритесь с искушениями…». Как и все в христианстве, таинство покаяния — эсхатологично. Оно есть возврат человека в вожделенное Царство, в «жизнь будущего века». А чем стало оно — я просто не знаю, и как, в каких «категориях» понимать и объяснять это «разрешение грехов» после трехминутного разговора о «слабостях» — тоже не знаю.
Воскресенье, 17 мая 1981
Среда, 3 марта 1982
Исповеди. Хорошие мальчики, хорошие девочки. Но как чувствуется в них эта постоянно нажатая педаль, неспособность к зрячей простоте, придавание всему в себе огромного значения. Они говорят, в сущности, не о грехах, а о failures — о неудачах: слово, которое в американском его звучании насквозь пронизано гордыней, ибо противопоставляется внешнему успеху, то есть своему успеху, а не успеху Божьему в себе. Студент пишет плохое сочинение и получает неважную отметку. И это сразу травма, проблема. Эта отметка подрывает его «веру в себя», приводит к «негативизму», грозит «цинизмом» — превращает его в «failure».